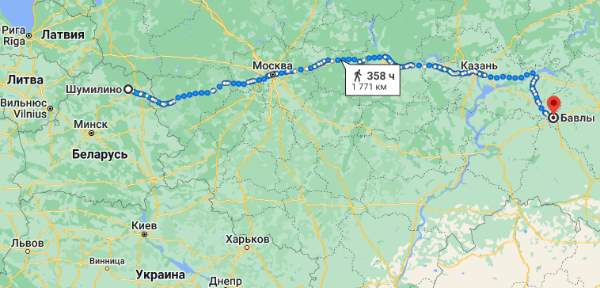Давным-давно, когда я была очень маленькой, а бабушка не очень старой, в начале каждой зимы мы ходили с ней на день рождения тети Розы. Тетя эта была одной из главных загадок моего детства. Никто не знал, где и кем она работает, и вполне могло статься, что она не работала вообще. Никто ни разу не объяснил мне степень родства. Все вокруг, даже моя бабушка, признанный и бесспорный матриарх, побаивались тети-Розиного острого языка и непримиримого характера.
День рождения тоже был окутан тайной. Во-первых, он странным образом перемещался по календарю, случаясь то в середине ноября, то в середине декабря. Во-вторых, из года в год повторялось неизменное меню. Сначала тетя Роза угощала нас картофельными драниками, затем шли ленивые вареники, щедро сдобренные сметаной, и странные соленые рогалики, начиненные сыром. На закуску подавались жаренные в масле румяные пышные пончики. Торта не было, и свечи ставили в большой многорукий подсвечник, всегда только две свечи и всегда не в конце, а в самом начале празднества.
Родители мои никогда не ходили к тете Розе, только бабушка и я. По младости лет меня за общий стол не сажали, кормили на кухне и отправляли спать в тети-Розину спальню, на огромную холодную кровать с резными львами в изголовье. Я накрывалась с головой одеялом, чтобы не видеть страшных львиных морд, и долго лежала, прислушиваясь к веселым голосам из комнаты и мечтая поскорее вырасти.
Когда мне исполнилось семь лет, бабушка впервые разрешила мне остаться. Условие она поставила одно, но железное — молчать. Никого ни о чем не спрашивать, никому ни о чем не рассказывать. Я так боялась, что отправят в спальню, что полвечера просидела, прикрывая рот ладошкой. Когда принесли пончики, и терять стало нечего, я осмелела и спросила у тети Розы, почему в подсвечнике только две свечи. В комнате внезапно сделалось тихо, тетя Роза повернулась ко мне и долго меня рассматривала, словно измеряла невидимой линейкой. «Свечи кончились», — сказала она наконец и отвернулась от меня.
За столом снова заговорили, задвигались, засмеялись. Бабушка пробормотала уголком рта, не глядя на меня: «Сказано же было молчать».
От греха подальше я вылезла из-за стола и спряталась за занавеской. На подоконнике лежала большая пачка свечей в цветной коробке, изукрашенной странными угловатыми знаками, похожими на иероглифы. Из любопытства я сосчитала — в пачке было сорок две свечи. Сомнений быть не могло, от меня скрывали какую-то тайну.
Предположение, что тетя Роза — японский шпион, я с сожалением отбросила, поскольку в тайну были посвящены все взрослые, а бабушка моя, не умевшая говорить шепотом, в шпионы явно не годилась. Идею, что тетя Роза связана с нечистой силой, и день рождения — это тайный шабаш, тоже пришлось отбросить. Только что прочитанный «Тиль Уленшпигель» утверждал, что ведьмы бывают рыжие, с разноцветными глазами и непременно с родимым пятном. Одно было ясно — все эти люди состоят в некоем тайном обществе. Непонятные слова, которыми обменивались гости перед тем, как сесть за стол, звучали как мистическое заклинание, загадочные свечи выглядели как зловещий ритуал. Чем занималось это тайное общество, я придумать не успела — бабушка вытащила меня из-за занавески, и мы отправились домой.
Бабушка вскоре переехала в другой город, к младшей дочери. Я выросла и забыла про тетю Розу и ее загадочный день рождения — мир и без того был полон чудес. Мы уехали в Израиль и начали учить иврит, самый древний в мире язык, лишенный гласных и читаемый задом наперед. В конце ноября, когда мы понимали уже довольно много, учительница решила рассказать нам про наступающий еврейский праздник. Для большей наглядности она принесла в класс ветвистый подсвечник и красивую тарелку, на которой пирамидой лежали пышные пончики.
Что-то вдруг дрогнуло во мне, что-то зашевелилось в дальнем углу души, просыпаясь, проясняясь постепенно, словно сквозь запотевшие очки. Учительница вставила свечу в подсвечник, взяла еще одну, зажгла, и от второй свечи зажгла первую. Вставив в подсвечник вторую свечу, она сказала громко и четко: יום ראשון — נר אחד (первый день — одна свеча). И написала на доске крупным учительским почерком: נר (свеча). Буквы уже не казались иероглифами, хотя еще не ощущались своими, родными.
Я встала и вышла из класса. Хотелось смеяться, хотелось плакать, а больше всего хотелось, чтобы была жива бабушка, удивительная моя бабушка, втайне от всех, даже от меня, пытавшаяся сохранить во мне хоть что-нибудь от своего еврейства. Пусть она вернется ко мне, пусть сядет рядом, ведь Ханука — праздник чудес. Пусть посмотрит на меня и улыбнется, а я скажу: «Я все-таки догадалась, бабушка! Я праздную Хануку».